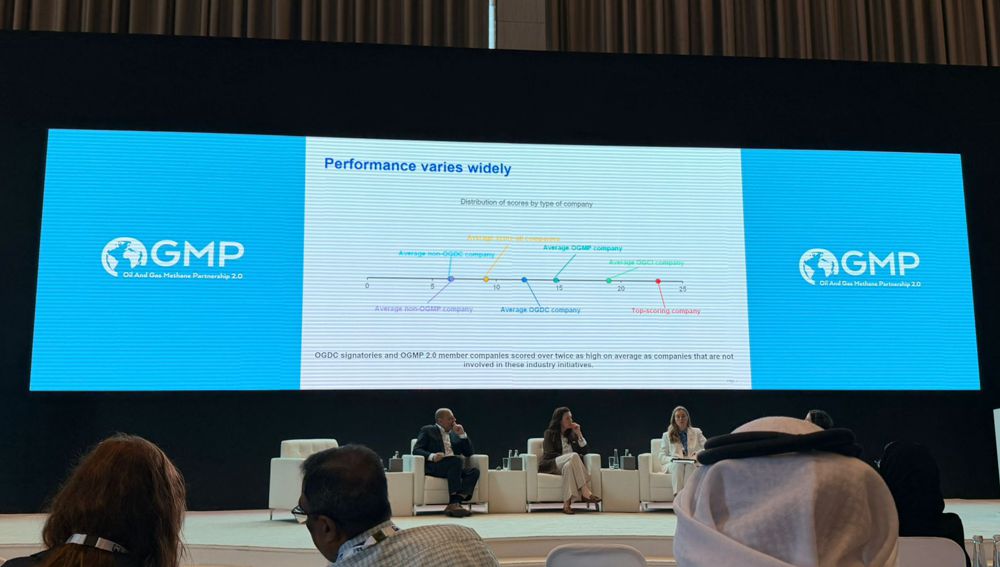ПУТЕШЕСТВИЕ В СЕРДЦЕ КАРАКУМОВ
1233 Каракумы встретили нас безмолвным величием. Бескрайние гряды барханов растекались до самого горизонта, словно застывший песчаный океан, где каждая волна – это золотистый холм, выточенный тысячелетними ветрами. Наш путь лежал через это царство песка к научно-экспериментальному стационару «Каррыкуль» – форпосту науки в самом сердце пустыни, который уже 65 лет ведет безмолвный диалог с Каракумами.
Дорога открывала удивительные картины пустынной жизни. То тут, то там показывались величественные силуэты верблюдов — живых кораблей пустыни, неспешно кочующих по своим древним маршрутам. Поражало видеть приспособившихся к жесткому климату коров из близлежащих селений Яндыклы и Шапы — природа здесь учит выживать всех.
Среди песков, как миражи, возникали сезонные пристанища чарвадаров – скотоводов-кочевников. Эти скромные жилища, сложенные из сырцового кирпича, хранят в себе мудрость тысячелетий. Плоские крыши на деревянных балках, укрытые тростником и скрепленные глиной, создают идеальный микроклимат: прохладу в пекло и тепло в стужу. Засушливый климат превращает эти простые материалы в вечную броню против времени.
Удивительно, но современные туркмены не спешат расставаться с этим наследием предков. Рядом с капитальными домами до сих пор стоят настоящие войлочные юрты — живые символы кочевого духа. Здесь, у потрескивающего очага, под звездным куполом пустыни, время словно замедляет свой бег. Ночевка на натуральной шерстяной кошме — это не просто дань романтике, но и исцеление для души, уставшей от городской суеты.
В этом есть глубокий символизм: человек инстинктивно тянется к своим корням, к той первозданной простоте, которая закаляет характер и очищает помыслы. Не случайно люди бегут в горы и пустыни, чтобы на время забыть о смартфонах и комфорте, проверить себя на прочность.
В каждом животноводческом поселке непременно найдешь тамдыр — традиционную глиняную печь, душу туркменской кухни. Это не просто печь, а настоящий храм гастрономии, где рождается чурек — туркменский хлеб с хрустящей корочкой и неповторимым ароматом. Но тамдыр способен на большее: здесь томится в горшочках ароматное жаркое, а в особых случаях целиком запекается баранья туша. Тот, кто хоть раз попробовал свежеиспеченную лепешку из тамдыра, пышущую жаром и источающую головокружительный аромат, навсегда запомнит этот вкус пустыни.
Жители песков — настоящие мастера адаптации. Здесь не строят заборов: соседи — это семья, а случайные путники — редкость. Каждое решение продиктовано суровой логикой пустыни. Высокий тростник арундо защищает огороды от палящего солнца и служит живым пылеуловителем, преграждая путь летящему песку. При этом для домашней птицы он остается проходимой изгородью.
Гениальные решения встречаются повсюду: дровяники, встроенные в загоны для скота, колодцы и водные каналы (кяризы), демонстрирующие столетия гидротехнического мастерства. Здесь, в сердце пустыни, можно изучать практики устойчивого жизнеобеспечения, отточенные поколениями. Особое место занимают лесопосадки из белого и черного саксаула — природного щита против наступающих песков.
Наша дорога следовала древним караванным путям — тем самым тропам, по которым столетиями двигались торговые караваны. Время превратило их в глубокие колеи, врезанные в ландшафт самой историей. Автомобиль плыл по этим песчаным "фарватерам" словно корабль по океанским волнам, огибая бесчисленные барханы.
Езда превращалась в захватывающий аттракцион. Скорость здесь — не прихоть, а необходимость: остановишься — увязнешь в зыбучих песках. Дважды мы испытали на себе коварство "пухляка" — мелкозернистого предательского песка. Когда колесо провалилось в песчаную ловушку, вся команда дружно выталкивала пикап, а машина, отчаянно цепляясь за неустойчивую опору, окатила "спасателей" золотистым песчаным дождем с головы до ног. Честно говоря, это было одновременно волнующе и весело — настоящее приключение!
Углубляясь в пески, мы оставили позади последние следы весеннего цветения. Эфемеры — однолетние травы — уже отцвели и рассеяли семена будущей жизни. Их высохшие стебли, подхваченные ветром, станут частью вечного круговорота пустыни, обогатив песчаную почву.
Теперь над барханами возвышались лишь стойкие деревца песчаной акации да кандымы с обнаженными корнями — живые памятники упорству жизни. Красота пустыни неуловима и вечна одновременно. Она открывается лишь внимательному путешественнику, готовому почувствовать неспешное дыхание вечности.
И вот перед нами предстал настоящий оазис — Центрально-каракумский стационар «Каррыкуль». Основанный в 1960 году по инициативе выдающегося ученого, академика Н.Т. Нечаевой, он стал зеленым островком познания в бескрайнем море песка.
Расположенный в 60 километрах от Ашхабада, рядом с колодцем Гаррыгул («старый сторож» в переводе с туркменского), стационар превратился в международный центр пустыноведения. За 65 лет здесь работали ученые со всех континентов — от Китая до стран Африки. Аспиранты и докторанты собирали здесь материал для диссертаций, а международные курсы привлекали специалистов из десятков развивающихся стран.
С 1970 года одним из ключевых направлений исследований стала разработка методов сбора дождевой воды с такыров — плоских глинистых участков пустыни. Примыкающий к стационару такыр площадью 150 гектаров стал природной лабораторией. При среднегодовых осадках всего 115 мм он умудряется собирать достаточно воды, чтобы наполнить специальное хранилище и обеспечить влагой экспериментальные посадки.
Ученые глубоко изучили традиционную народную гидротехнику, возродили древние приемы, которые помогают пустынникам разводить скот и выращивать бахчи. Многолетние исследования позволили создать карту залегания пресных подземных вод по всему Туркменистану.
С 1986 года в Каррыкуле начались дерзкие эксперименты по акклиматизации "чужаков" — растений, которые природа никогда не предназначала для пустыни. Шелковица, лох восточный, сосна эльдарская, маклюра, витекс, опунция и юкка славная — все они не просто прижились, но и плодоносят в этом суровом краю.
Гранат, прутняк, метельник, плосковеточник и можжевельник виргинский превратили научную станцию в цветущий сад посреди пустыни. Этот уникальный опыт не имеет аналогов в мире.
Но главным достижением стала акклиматизация фисташки — горного жителя, привыкшего к соседству с миндалем и другими горными породами. В 1989 году под руководством кандидата биологических наук Константина Павловича Попова началась настоящая научная авантюра — выращивание фисташки прямо на такыре.
35-летний эксперимент увенчался полным успехом. Сегодня фисташковые рощи продолжают расширяться, деревья цветут и плодоносят, доказав, что человеческая воля и научная мысль способны творить чудеса даже в самых суровых условиях.
Стационар стал пионером в использовании альтернативной энергии. Здесь испытывались солнечные и ветровые установки для подъема воды из малодебитных колодцев. Сегодня работающая солнечная батарея служит примером для всех, кто живет и трудится в Каракумах, показывая путь к энергетической независимости в условиях пустыни.
Стационар «Каррыкуль» — это больше чем научное учреждение. Это символ человеческого упорства, доказательство того, что знания и воля способны превратить безжизненную пустыню в цветущий оазис. Здесь, в сердце Каракумов, ученые продолжают писать удивительную книгу о том, как человек и природа могут жить в гармонии, дополняя и обогащая друг друга.
Гульнабат Джумамырадова, научный сотрудник
Национального института пустынь,
растительного и животного мира